Ещё до школы
(Из тетрадей «Целебные крохи воспоминаний»)
М.Е.Бурно
Война
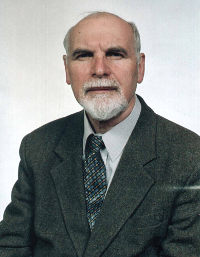 Когда война началась, мне было два года, а когда кончилась, уже было шесть. Почти всю войну я прожил на Спартаковской улице у бабушки с дедом. Ещё жили там сестра отца тетя Валя и её сын Жора, мой двоюродный брат, который на два года меня старше. Мои родители работали тоже в Москве в Психиатрической больнице Кащенко (ныне – снова Алексеевской), превращённой тогда в Госпиталь для раненных в голову офицеров. Там же они и жили в двухэтажном с полуподвалом краснокирпичном доме для сотрудников. Вечером, после работы, к ним приходил со второго этажа этого дома знакомый, рентгенолог, и они втроём играли в преферанс, пили чёрный желудёвый кофе и ели варёные картофелины в мундирах. Они так привыкли к войне, что только закрывали окно шторой во время бобежки и продолжали играть и разговаривать. Окно закрывали, чтобы немецкий лётчик не бросил на свет зажигательную бомбу и не выстрелил в окно из пулемёта. На Спартаковской тоже, конечно, были бомбёжки. Хорошо помню, как однажды после бомбёжки бабушка выкупала нас с Жорой в ванне и накормила нас, очень чистых, кажется, в новых пижамках, жареной вкусной картошкой. Мы тоже привыкли к бомбёжке, привыкли ходить по тревоге в бомбоубежище. Помню также, как строили мы тогда с Жорой на полу дома из кубиков. У брата вышел красный дворец и понравился деду. На мою работу дед махнул рукой. Сказал, что какие-то люди в таких развалюхах жили, а какие люди, не помню, смешное, какое-то лохматое название. Дед был суров, приказывал бабушке приносить ему завтрак в постель, и у бабушки бывали от него синяки. Но когда, уже после войны, бабушка заболела тяжёлой, неизлечимой болезнью мозга и несколько лет до самой смерти, парализованная, не могла встать с постели, дед покорно, заботливо перекладывал её и кормил, как помню, кусочками-кубиками хлеба, колбасы, чаем.
Когда война началась, мне было два года, а когда кончилась, уже было шесть. Почти всю войну я прожил на Спартаковской улице у бабушки с дедом. Ещё жили там сестра отца тетя Валя и её сын Жора, мой двоюродный брат, который на два года меня старше. Мои родители работали тоже в Москве в Психиатрической больнице Кащенко (ныне – снова Алексеевской), превращённой тогда в Госпиталь для раненных в голову офицеров. Там же они и жили в двухэтажном с полуподвалом краснокирпичном доме для сотрудников. Вечером, после работы, к ним приходил со второго этажа этого дома знакомый, рентгенолог, и они втроём играли в преферанс, пили чёрный желудёвый кофе и ели варёные картофелины в мундирах. Они так привыкли к войне, что только закрывали окно шторой во время бобежки и продолжали играть и разговаривать. Окно закрывали, чтобы немецкий лётчик не бросил на свет зажигательную бомбу и не выстрелил в окно из пулемёта. На Спартаковской тоже, конечно, были бомбёжки. Хорошо помню, как однажды после бомбёжки бабушка выкупала нас с Жорой в ванне и накормила нас, очень чистых, кажется, в новых пижамках, жареной вкусной картошкой. Мы тоже привыкли к бомбёжке, привыкли ходить по тревоге в бомбоубежище. Помню также, как строили мы тогда с Жорой на полу дома из кубиков. У брата вышел красный дворец и понравился деду. На мою работу дед махнул рукой. Сказал, что какие-то люди в таких развалюхах жили, а какие люди, не помню, смешное, какое-то лохматое название. Дед был суров, приказывал бабушке приносить ему завтрак в постель, и у бабушки бывали от него синяки. Но когда, уже после войны, бабушка заболела тяжёлой, неизлечимой болезнью мозга и несколько лет до самой смерти, парализованная, не могла встать с постели, дед покорно, заботливо перекладывал её и кормил, как помню, кусочками-кубиками хлеба, колбасы, чаем.
По воскресеньям приезжали мои родители и изредка привозили необыкновенное. То живую курицу, купленную на больничной конюшне у главного конюха дяди Вани, то кусок толстой колбасы. Почему-то хорошо, отчётливо помню, как тихая, мягкая бабушка, ещё здоровая, в конце войны, пила утром чай из белой чашки с нарисованным коричневым медведем, ела бутерброд с варёной колбасой, и от неё так вкусно пахло этой разжёванной колбасой.
3 января 1974 г., Москва.
Немцы у Москвы
Осенью 1941 года, когда немцы подходили к Москве, верующая тётя Валя втайне от моих родителей отвела меня, уже двухсполовинойлетнего, в Елоховскую церковь. Там меня крестили в православную веру. На всякий случай, как объяснила тётя Валя. Чтоб немцы не убили меня за еврейскую кровь от другого деда, которого я никогда не видел.
Хотя и дед, и бабушка, и тётя Валя много говорили между собой по-немецки, и даже, помню, висели в кухне полотенца с вышитыми на них красными немецкими словами, нас с Жорой немецкому не учили и старались при нас по-немецки не разговаривать. Опасались, вдруг кто-то подумает, что мы немцев ждём. Но мне немецкий язык, впитанный с раннего детства, боже мой, как пригодился бы теперь. Потому что благородные немецкие, австрийские, швейцарские психиатры написали замечательно глубокие книги, и многие из них на русский язык не переведены. С досадой вспоминаю, как моя австрийская бабушка Анна Адольфовна Ганцке, плохо говорившая и читавшая по-русски, мучилась, переводя мне из большой толстой книги сказку Братьев Гримм. Сказка была напечатана там готическим шрифтом и с цветными картинками. Правда, в этих картинках всё было так закруглено, полакировано, например, босые ноги у девочки в лесу такие розовые и такие чистенькие, что не может так быть.
8 января 1974 г., Москва.
Тётя Валя
Кажется, чуть-чуть помню, как меня крестили – купали ревущего в чём-то, и кажется, даже давали пить красное вино. Потом, когда мы с тётей Валей и Жорой ходили в церковь, она просила нас там целовать у пола чёрные фигурки ангелов. Мы гладили их по круглым, как шары, головкам и целовали. А тётя Валя запрещала смеяться при этом и говорила, что Боженька всё видит и за хорошее наградит, а за плохое накажет. Тётя Валя просила нас давать её монетки нищим у входа в церковь. В нашу квартиру часто заходили эти же нищие. Тетя Валя защищала их от ругани деда, не верующего в бога, кормила, давала напиться из эмалированной кружки. Сама тётя Валя, сколько помню, всегда торопилась сделать людям что-то хорошее. Когда заболевал кто-нибудь из одиноких соседей, она шла за ним ухаживать – кормить, давать лекарство, выносить горшок. Всё это научился делать и её сын Жора. Мне казалось странным и в то же время нравилось, что тётя Валя относится к незнакомым людям, которых впервые видит, с такой же сердечностью, как к близким. Но в Бога поверить я не смог. То, что рассказывала мне о нём тетя Валя, в сущности, было большой подробной сказкой, то есть, ясно чувствовалось, что всё это понарошку. Но чем дольше я жил и убеждался в том, что люди вокруг меня взаправду умирают, чем больше убеждался в том, что и сам непременно умру, может, даже завтра, – тем яснее понимал, что необходимо быть схваченным каким-то делом или какой-то особенной любовью, чтобы это было выше, сильнее смерти, чтобы в этом состоянии совсем не страшно было бы умереть.
Всё-таки мне до сих пор по душе, что меня крестили. Может быть, потому, что с этим стал ближе к русской старине.
11 января 1974 г., Москва.
Дома
Весной 1944 года, за год до конца войны, вечером, отец вёз меня, пятилетнего, со Спартаковской жить домой. Он сказал, что дома меня ждут игрушки. Пока ехали в метро, в трамвае, я, зажмурив глаза, твердил про себя, какие игрушки мне хотелось бы получить, представляя себе эти игрушки? Лошадок, жирафов, обезьянок. Дома отец вытащил из-под кровати чемодан, наполненный как раз теми жирафами, лошадками, обезьянками, которых представлял себе. Наверно, то были мои старые довоенные игрушки, бессознательно спрятанные в памяти, потому что больше никогда не удавалось мне получить таким образом то, что хотел. Я даже стал потом, желая что-то получить, действовать совсем наоборот. То есть, твердил про себя, представляя перед закрытыми глазами желаемое: не будет у меня этого, не будет! Должно быть, это делалось, чтобы меньше расстраиваться, если не сбудется мечта. Мама, видя, как рад я игрушкам, потребовала, чтобы отец вытащил ещё один такой чемодан из-под кровати. Когда отец стал возражать (зачем же всё сразу?), мама сама вытащила и открыла второй чемодан.
Утром я смотрел в окно, как отец в палисаднике учил людей надевать и снимать противогаз. Несколько человек стояли перед ним шеренгой, и у каждого был через плечо противогаз в зелёной матерчатой сумке. Потом, дома, папа рассказал и мне, что надевший на лицо резиновую маску противогаза дышит только тем воздухом, который проходит к нему через особый уголь в металлической коробке, очищающий воздух от дыма и немецких ядовитых газов, чтобы человек не погиб, как жук для коллекции в банке.
Через три-четыре года с зелёной сумкой от противогаза я ходил с ребятами в овраг, к болотцу, в поход за тритонами, жуками, гусеницами, и в сумке был хлеб и сахар.
17 января 1974 г., Москва.
В коммунальной квартире в доме для сотрудников Больницы Кащенко
В этой квартире прошло моё детство после возвращения со Спартаковской улицы. Война тогда отошла уже далеко от Москвы. В день Победы запахло на московских улицах незнакомым вкуснейшим запахом любительской колбасы с грузовиков-буфетов. Ещё помню химический запах тонких ярких страниц журнала «Америка», американские бульонные кубики и яичный порошок.
Быстро появились в Москве и свои мягкие булочки, «Крюшон», «Крем-сода» в стеклянных бутылках – вкуснейшие, без всякого чувства мыла. Появились ещё и другие свои колбасы – вплоть до чесночно-еврейской в каком-то центральном гастрономе. Конечно, ещё много было голодных людей, жили по карточкам. Стоял ещё между нами и Западом «железный занавес». Поэтому своё природное, не техническое, стоило гораздо дешевле, нежели потом, когда стали природное продавать за границу.
В нашей коммунальной квартире у всех семей в посуде был тяжёлый хрусталь разных цветов. Даже в начале семидесятых мы, преподаватели, покупали на выездном цикле в Риге янтарные бусы по несколько штук – так недорого.
Жили мы в отдельной комнате в многокомнатной квартире до моего третьего курса медицинского института. Помню это потому, что осенью в год переезда в отдельную квартиру сосед-историк Тартаковский спросил меня на кухне, что мы теперь проходим. Я сказал, что начались внутренние болезни, и он громко смеялся.
В день рождения шли поздравлять деньрожденника все соседи из разных комнат. Помню, как мой ровесник Стасик, сын незамужней медсестры, улыбаясь, протянул мне хрустальный бокал в форме сардельки. Бокал этот и сейчас стоит в нашем серванте. А лет через сорок Елизавета Юльевна, моя медицинская сестра, многолетняя помощница, подарила мне ко дню рождения тоже хрустальный бокал, но не белый, а бордовый – и покрупнее, пошире. Но – из той же послевоенной поры, из подобной коммунальной квартиры, где жили они семьёй вместе с семьёй Деглиных и ещё другими соседями.
3 января 2008 г., Майкоп.
Рисование в детском саду
Ещё шла или только закончилась война, а у нас, в нашем желтом детском саду у оврага, уже были цветные карандаши. Если помочить их во рту, получалось на бумаге так светло-красочно… Из смешения зелёного и жёлтого выходила морская волна с пеной, как у Айвазовского. Рисовал всякое жизненное мокрыми карандашами ярко-разноцветно и притом законченно, без каких-то недоговорённостей-намёков. Мне так легко, хорошо делалось в рисовании. Сейчас всё думаю, что меня тогда к такому рисованию с отчётливой яркостью, законченностью подмывала моя детская неуверенность-тревога, ищущая опору в определённости.
14 августа 1994 г., Москва.
Конюшня
Позади нашего дома стояла больничная конюшня. Отец меня туда носил маленького до войны. Я показывал, как рассказывала мама, на лошадей, кур и, не умея ещё говорить, радостно произносил: «У! У!» Уже вернувшись домой со Спартаковской, крепко полюбил конюшню, подолгу смотрел, как стоят лошади, едят из кормушек овёс, сено, шумно вздыхают, смотрел, как дёргается их кожа, когда садятся на кожу мухи. С удовольствием вспоминаю сейчас запах конюшни, как переступали лошади с ноги на ногу, хвостами обмахивались, стоя спали. Напротив краснокирпичного хлева для лошадей был деревянный навес, под которым – телеги. Куры, петухи во время дождя сидели и стояли на земле под телегами. В глубине под навесом стояли для зимы сани, оглобли, дуги с надписью «Больница Кащенко». На телеге с лошадью возили в громадных кастрюлях суп, кашу, кислую капусту для больных – из больничной кухни в отделения. Или возили больничную одежду.
Главному конюху, низкорослому дяде Ване, было девяносто два года, как сказал мне мой приятель толстогубый Ванька по прозвищу Губанадзе, его родственник. Дядя Ваня, помнится, разговаривал мало. Его руки были коричневыми, грубыми, как кора дуба, пахли лошадьми. Кучер дядя Харитон помоложе, высок ростом, худ, с вихлястыми смешными движениями, весёлый, хотя тоже молчаливый. Он разрешал мальчишкам звать его Харитошей. Я любил с ним молча ездить на телеге или в санях. Он сосредоточенно правил, а я смотрел на круп и хвост лошади. Хвост вдруг приподнимался, и на ходу вываливались из под хвоста зелёные навозные шары. Зимой шёл от них пар, и они морозом превращались в камни. Я, кажется, тогда думал, что вот лошадь работает, везёт громадные кастрюли с кислой капустой и ещё нас, а в её большом тёплом животе получаются из овса и сена эти шары с таким хорошим запахом. Однажды в воскресенье в мороз мы с Харитошей долго ездили на санях с кастрюлей каши, узлами одежды. Я промёрз, очень захотелось горячих варёных картофелин в мундирах с тающими на них кусочками масла и с чёрным хлебом. Прибежал домой, и мама дала мне всё это.
Лошадей всё меньше оставалось в конюшне. Их, видимо, отдавали в колхоз, или они умирали от старости. Когда я окончил школу, конюшню закрыли: в больнице уже были свои грузовики.
1974 г., Москва.
Наша квартира
Мы жили втроем в одной комнате. Дверь открывалась в коридор, как и двери других десяти комнат. В квартире было еще пять семей, кроме нас, много народу, а до революции в этой квартире жил больничный священник со своей семьей. Еду готовили в общей кухне на керосинках или электрических плитках, не было ещё газа. Не было и прачечных. Не было у нас ни ванны, ни горячей воды. Мама вечером после работы ставила в кухне на табуретку корыто и стирала в мыльной пене бельё, тёрла рубашки, штаны о рёбра стиральной доски. Умыться утром было трудновато, потому что в кухне у довольно маленького крана с раковиной стояла очередь людей с голыми руками, плечами. Каждый держал в одной руке мыльницу, а в другой чашку с зубной щеткой.
Недавно нашел записку тех времен: мама писала отцу, что в больничной столовой продают мёд и она будет стоять в очереди до конца.
25 января 1974 г., Москва.
«Синяя птица»
В детстве несколько раз был в Художественном театре на «Синей птице» Метерлинка. Однажды – зимой, в первые дни Нового года. Там, на сцене, тоже была морозная зима за окнами хижины дровосека, ночь перед Рождеством. Детям дровосека и его жены, мальчику и девочке, приснилось, будто они проснулись, открыли ставни и смотрят сквозь бело-узорные стекла, как в ярком свете веселятся у ёлки богатые дети в соседнем доме. На столе богатых детей – пирожки, яблоки, пирожные с кремом. Митиль вспоминает, что когда была маленькая, как-то раз ела пирожное. Тиль-тиль тоже когда-то ел. И вот тут они поругались из-за того, что Митиль считала, что в том блюде пирожные с кремом, а Тиль-тиль – что это пирожки. Я сейчас не нашёл этого места в книге Метерлинка, но что-то именно такое было на сцене. Может быть, сам театр такое придумал, добавил? Во всяком случае это запало в меня и всю жизнь жалит. Конечно, помню и то, как Сахар звонко отламывал кусочки от своих белых пальцев и давал детям, как Хлеб воткнул себе в живот нож и вырезал кусок для детей. Но это всё спрятано за тем особенным, грустно-смешным воспоминанием-переживанием, как в ночь перед Рождеством спорят бедные дети, воображая себя за столом вместе с богатыми, пирожок это или пирожное с кремом.
13 декабря 1985 г., Москва.
Ещё о «Синей птице»
Нежная особенность Метерлинка состоит в том, что он, рассказывая сказку или даже что-то мистическое, всё устраивает так, что для меня – материалиста – всё это действительно так могло и может быть. Детям Дровосека мог присниться волшебный сон про Синюю птицу. И, в самом деле, как только вспомнят умерших бабушку и деда, те как бы просыпаются и видят своих внуков. Я ещё в детстве удивился этой метерлинковской правде: мёртвые живут, когда о них думают живые. И тоже верно – «живые обыкновенно такой вздор городят про неживых».
Уже взрослым читал пьесу Метерлинка про умирающую женщину – «Непрошенная». Там всё это ещё сильнее чувствуется. Садовник косил в темноте под окном – как будто бы это одновременно и Смерть косила. Служанкины были шаги на лестнице – как будто бы это одновременно и Смерть шла к умирающей в дом и взяла её. Одни так чувствуют-переживают, другие – этак. И всё – правда жизни, если переживание нравственно. Потому что всякая нравственность права. Выходит, одухотворенный идеализм – такая же правда жизни, как и одухотворённый материализм.
22 января 1988 г., Москва.
Рогатка
Не помню, на что выменял у Ваньки Губанадзе рогатку. Выстрелил несколько раз в воробьёв в палисаднике – всё мимо: глаз у меня всегда был расплывчатый и движения неточные. Смотрю, старушка идёт незнакомая. Я ей с пяти-шести шагов легонько рогаткой в спину послал камешек и попал. Сделал это как-то бездумно, просто хотелось в кого-то попасть. Должно быть, в охотничьем азарте был. Конечно, старушке не было больно, но крепко рассердилась, перелезла через забор и побежала за мной, ругаясь. Я припустился почему-то домой. Наверно, от страха бросился в родное место, не зная, куда ещё бежать. Родителей дома не было, комната наша заперта, я юркнул в уборную и там заперся. Старушка стучалась в дверь уборной, а потом в кухне выспрашивала у соседей, кто мои родители. Дождалась отца, и влетело мне офицерским ремнём. Поплакал, но не обиделся на отца, так и надо, поделом. Даже гордился, что ремня получил за стреляние из рогатки.
1974 г., Москва.
Запахи слов
В громадной асфальтовой, индустриально-грохочущей Москве есть островки земли с полевыми цветами, которые почти никто не рвёт. Покупают на рынке гладиолусы, астры, розы и другую садовую пышность, яркость, элегантность. Как хорошо, что люди разные, что нет сейчас моды на заброшенные простые цветы, и могу собрать в стакан этот букет – из пижмы, цикория, клевера, тысячелистника. Ещё к ним прибавлю лисий хвост.
С цикорием познакомился лет в пять-шесть. Трудно было оторвать в палисаднике его крепкий, как проволока, стебель с голубыми, прозрачными на солнце цветками. И белые бабочки над этими цветками тоже были прозрачны. Узнав, что это цикорий, никак не мог соединить его с чудесным запахом бабушкиного кофе с цикорием. А некоторые другие слова с самого начала пахли тем, что к ним совсем не относилось. Так, фамилия мальчика в детском саду – Никифоров – почему-то до сих пор пахнет для меня копчёной рыбой, а слово «туберкулёз» – какой-то вкусной жидкой кашей вроде геркулеса.
27 июля 1985 г., Востряково.
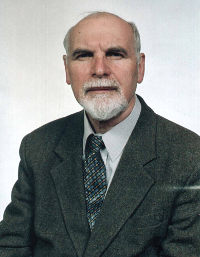 Когда война началась, мне было два года, а когда кончилась, уже было шесть. Почти всю войну я прожил на Спартаковской улице у бабушки с дедом. Ещё жили там сестра отца тетя Валя и её сын Жора, мой двоюродный брат, который на два года меня старше. Мои родители работали тоже в Москве в Психиатрической больнице Кащенко (ныне – снова Алексеевской), превращённой тогда в Госпиталь для раненных в голову офицеров. Там же они и жили в двухэтажном с полуподвалом краснокирпичном доме для сотрудников. Вечером, после работы, к ним приходил со второго этажа этого дома знакомый, рентгенолог, и они втроём играли в преферанс, пили чёрный желудёвый кофе и ели варёные картофелины в мундирах. Они так привыкли к войне, что только закрывали окно шторой во время бобежки и продолжали играть и разговаривать. Окно закрывали, чтобы немецкий лётчик не бросил на свет зажигательную бомбу и не выстрелил в окно из пулемёта. На Спартаковской тоже, конечно, были бомбёжки. Хорошо помню, как однажды после бомбёжки бабушка выкупала нас с Жорой в ванне и накормила нас, очень чистых, кажется, в новых пижамках, жареной вкусной картошкой. Мы тоже привыкли к бомбёжке, привыкли ходить по тревоге в бомбоубежище. Помню также, как строили мы тогда с Жорой на полу дома из кубиков. У брата вышел красный дворец и понравился деду. На мою работу дед махнул рукой. Сказал, что какие-то люди в таких развалюхах жили, а какие люди, не помню, смешное, какое-то лохматое название. Дед был суров, приказывал бабушке приносить ему завтрак в постель, и у бабушки бывали от него синяки. Но когда, уже после войны, бабушка заболела тяжёлой, неизлечимой болезнью мозга и несколько лет до самой смерти, парализованная, не могла встать с постели, дед покорно, заботливо перекладывал её и кормил, как помню, кусочками-кубиками хлеба, колбасы, чаем.
Когда война началась, мне было два года, а когда кончилась, уже было шесть. Почти всю войну я прожил на Спартаковской улице у бабушки с дедом. Ещё жили там сестра отца тетя Валя и её сын Жора, мой двоюродный брат, который на два года меня старше. Мои родители работали тоже в Москве в Психиатрической больнице Кащенко (ныне – снова Алексеевской), превращённой тогда в Госпиталь для раненных в голову офицеров. Там же они и жили в двухэтажном с полуподвалом краснокирпичном доме для сотрудников. Вечером, после работы, к ним приходил со второго этажа этого дома знакомый, рентгенолог, и они втроём играли в преферанс, пили чёрный желудёвый кофе и ели варёные картофелины в мундирах. Они так привыкли к войне, что только закрывали окно шторой во время бобежки и продолжали играть и разговаривать. Окно закрывали, чтобы немецкий лётчик не бросил на свет зажигательную бомбу и не выстрелил в окно из пулемёта. На Спартаковской тоже, конечно, были бомбёжки. Хорошо помню, как однажды после бомбёжки бабушка выкупала нас с Жорой в ванне и накормила нас, очень чистых, кажется, в новых пижамках, жареной вкусной картошкой. Мы тоже привыкли к бомбёжке, привыкли ходить по тревоге в бомбоубежище. Помню также, как строили мы тогда с Жорой на полу дома из кубиков. У брата вышел красный дворец и понравился деду. На мою работу дед махнул рукой. Сказал, что какие-то люди в таких развалюхах жили, а какие люди, не помню, смешное, какое-то лохматое название. Дед был суров, приказывал бабушке приносить ему завтрак в постель, и у бабушки бывали от него синяки. Но когда, уже после войны, бабушка заболела тяжёлой, неизлечимой болезнью мозга и несколько лет до самой смерти, парализованная, не могла встать с постели, дед покорно, заботливо перекладывал её и кормил, как помню, кусочками-кубиками хлеба, колбасы, чаем.